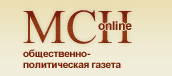Базар
Кто сказал, что нет на земле ничего вечного? А базар? О, этот феномен нашей жизни еще ждет своих исследователей. Какие страсти, какие эмоции вскипают в торговых рядах и медленно угасают только для того, чтобы однажды вспыхнуть вновь.
В советские времена кара–балтинский базар был тих, скромен и как бы даже застенчив: он тихо вершил свои дела, не выходя за стены, которыми его ограничили от честной жизни простых советских тружеников. Молочники занимали свой павильон, мясники — свой. Арбузы осенью сгружались в аккуратные кучи и с тоской посматривали на нежные, пахучие дыни, лежавшие в сторонке от них. Фрукты, овощи громоздились аккуратными кучками на прилавках. Торговцы в отличие от магазинных были приветливы и внимательны. Сцепив зубы, они молча смотрели на то, как вертлявая, смеющаяся женщина переходила от прилавка к прилавку, пробуя сладкую, еще влажную от утренней росы клубнику, пока наконец не насыщалась ею. Они давали пробовать сало, колбасу, позволяли мять и тискать кур и ощипывать виноград.
На всем базаре было только два ярких пятна: арбузные развалы, над которыми высился разрезанный пополам самый сладкий и самый красный, а также расписанные под ковры и картины обыкновенные хозяйственные клеенки. К арбузам народ тянулся на бесконечный, вибрирующий, меняющий тональность крик: “Подходи, народ, свой огород, половина — сахар, половина — мед”, а к клеенкам — на саму красоту. Жирные лебеди с неестественно изогнутыми шеями казались нам верхом совершенства. Что такое любовь, мы узнавали по розово–голубым картинкам, на которых внутри огромного, пухлого, розового сердца помещались лица влюбленных — он с напомаженными и прилизанными волосами и она с кокетливо поджатыми губками. Руки их переплелись в любовном экстазе, а глаза от этого же самого экстаза были подернуты поволокой. Я вздыхала, глядя на них, но купить не смела — родители почему–то долго и ехидно смеялись, когда я принесла однажды нечто подобное домой и приклеила на стену над своей кроватью. Они также высмеяли пудру “Лебяжий пух”, которую мы, девчонки, купили своей учительнице на Восьмое марта, а также искусственные ядовито–фиолетовые цветы, сделанные из куриного пуха. Мне было горько оттого, что они не понимали истинной красоты, но что было делать с ними, прошедшими всю войну и побывавшими в Европе?
Базар был запрещенным местом для детей. Время от времени комиссии районо, в составе которых были в основном престарелые партийки, отправлялись на базар с рейдом, и горе было тем родителям, чьи дети были, что называется, застуканы на месте преступления: они продавали товар и даже давали сдачу, прекрасно ориентируясь в ценах! Потом мы, пионеры, прорабатывали таких ребят на своих собраниях, с ужасом глядя на тех, кто вместо того, чтобы ходить в библиотеки, торговал… Они были другие. И у них всегда шуршали денежки в кармане. Мы их презирали. Они презирали нас. Может быть, именно поэтому на базар тянуло страшно. Хотелось также легко подбросить в руках дыню и вдохнуть ее аромат, закатив при этом глаза от невозможного восторга. Хотелось высыпать семечки в туго скрученные кульки, в последний момент отсыпая их часть назад в мешок, хотелось попробовать торговать именно потому, что это было запрещено категорически. Моя подруга Лорка Литвинова не понимала моей тяги к базару. Фи, говорила она, какая пошлость. И мы отправлялись слушать “Времена года” Чайковского, которые она почти виртуозно исполняла на фортепиано.
Теперь кара–балтинский базар распух, распочковался на множество своих составных частей, обнаглел, окреп, раздвинул ненавистные стены и практически поглотил всю ту жизнь, что долгие годы была далеко за его пределами. Базар стал для карабалтинцев всем сразу — музеем, кормильцем, клубом, властью, мечтой и реальностью. Я вглядываюсь в лица торговцев и обнаруживаю своих постаревших одноклассниц. Вся их жизнь прошла на базаре, и они знают о нем все или почти все, потому что базар постоянно меняется и вечно обновляется. Знали ли их родители о том, что ждет дочерей, когда вновь и вновь писали объяснительные в районо и клятвенно обещали отправлять детей в библиотеки, а не в торговые ряды? Пожалуй, нет. Но они знали жизнь и еще знали по собственному опыту, что на базаре никогда не останешься голодным. Дети моих одноклассниц давно открыли собственные магазины, а их внуки, может быть, подберутся к такой торговле, которая сделает их дом полной и богатой чашей. Может быть, мои одноклассницы им говорят: “Нам не дали жить так, как мы того хотели, так пусть хоть у вас все получится”. Одноклассницы, просидевшие в библиотеках, теперь долго торгуются, выгадывая каждый сом и горестно покачивая головами: как жить?
Базар тянется бесконечной чередой, прерываясь только на пересекающие его улицы и дороги. Продают все. Покупают выборочно. Но, кажется, нет ничего такого, чего нельзя было бы на нем купить. От старья до яркого китайского ширпотреба. От угля машинами до рыбы на любой вкус. В одном нищем узнаю своего одноклассника, некогда тихого и робкого мальчика. Он и теперь робок и тих и только монотонно повторяет: “Дайте. Дайте. Дайте денег”. Облезлая шапка на голове. Просит, вытянув руку. Синяя, худая, замерзшая, она голо торчит из рваного рукава, а я почему–то вспоминаю о том, как хорошо он рисовал и чертил и учителя прочили ему большое будущее. Спросить, как жил? Но прохожу мимо.
А между базарами, вдоль длинной дороги, тянутся ряды спонтанного рынка: сюда со своим скарбом плетутся граждане Кыргызстана, чтобы, продав ненужное, купить необходимое. Вдоль дороги разложены поношенные жакеты и скособоченные туфли, электроплитки времен первых советских пятилеток и кастрюли, в которых готовили еще на заре прошлого века. Этот базар также ориентируется на спрос и здесь можно увидеть в преддверии Нового года такие елочные украшения, какие были во времена моего детства. О, как блестели и манили тогда эти стеклянные длинные трубочки, нанизанные на нитку! Теперь краска с них почти что слезла. Но хозяин, старый, подслеповатый дед, нежно трогает их корявыми пальцами, поправляя гирлянду. Где, как и почему сохранилась она, такая жалкая и старая, если вспомнить обо всех тех шарах, колокольчиках и прочих ярких сегодняшних елочных игрушках? Но смотрю на нее и вспоминаю холодок, пробегающий по спине, когда мы, девочки в легких марлевых платьицах, водили хоровод вокруг школьной елки, унизанной такими гирляндами. О, как они были тогда прекрасны, ярки, великолепны… Как смеялась моя подруга Лорка, когда нечаянно задела одну из гирлянд и та зазвенела нежным, хрустальным, зимним звоном.
Но что это?! Кто эта тетка с потухшим взором, со шмыгающим носом и толстым животом, окутанным от холода в выношенную пуховую шаль?! Откуда ее знаю? На земле перед нею лежат томики стихов. Ахматова, Гумилев, Пастернак. И — никто не берет. Господи, еще каких–то десять лет назад их не просто бы взяли, но и еще бы долго не верили в свое счастье. Рядом громоздятся папки с нотами. Да, совсем не ходовой товар. А что еще? Какие–то салфеточки, вышивки… Стоп. Откуда я знаю эту салфетку?! По белому полю нежные салатные листья и розовые пупырышки, которые так мастерски вывязывала мать… Лорки. Не может быть! На этой салфетке Лоркина мать, интеллигентная седая дама, подавала нам с Лоркой чай и желтые, солнечные, сладкие булочки к нему. Она вообще многому нас учила. А обед в столовой долгое время был для меня мукой мученической, потому что она требовала обязательного пользования всеми многочисленными ножичками и вилочками, хотя, на мой взгляд, вполне могло хватить и одной вилки. Мы пили лимонад из высоких бокалов и утирали рты нежными, салатными же салфетками. Мы говорили о музыке, литературе и кино. Музыку любила Лорка, я — книги, Лоркина мама — кино.
— Лора? Вас зовут Лора?
Женщина смотрит на меня равнодушным, тусклым взглядом: “Ну”.
— Ло, ты не узнаешь меня?
И снова в ответ равнодушный взгляд: “Узнаю”. И потом несколько подробнее: “Я тебя сразу узнала”. Стою переминаясь. Глупые слова про то, что нас когда–то связывало, из горла не идут. Желание обнять ее, как прежде, прижаться к ее крепкому телу и услышать тот, давний, переливчатый смех гаснет сразу же, едва руки мои было взметнулись к ней. Ее медленный, сдержанно–злой взгляд пресекает все мои попытки сократить дистанцию. Но я стою. Ведь это — Лорка.
Лорка вздыхает, бросая на меня такой знакомый взгляд: ничего не хочу, но ведь ты не уйдешь просто так, правда? И начинает собирать скарб в потрепанный рюкзак. Потом мы идем. Медленно. Молчим. На пути возникает кафе, и мы автоматически, не договариваясь, заходим туда. Лорка пьет горячий чай жадно, откидываясь на стуле и постепенно снимая с себя шаль, куртку, расстегивает теплую кофту, и я вижу, что она совсем не такая толстая, какой показалась вначале.
— Я, — говорит она, — здесь ненадолго, надо было кое–какие бумаги собрать и — домой.
— Ты, — спрашиваю, — ведь жила в Ленинграде?
— Жила. Теперь живу за Бишкеком. Мать умерла. Ты ведь помнишь, что я у нее была поздним ребенком. Муж умер. Квартиру продала. Сына похоронила: погиб в Таджикистане. Дочь похоронила: умерла после Чечни. Они оба у меня были врачами. Сама? А что сама… Музыку преподавала. Сейчас по инвалидности, нервное расстройство у меня. Как здесь оказалась? Да родственники у меня тут были. К ним приехала. Очень мне было одиноко, жить не хотела. Вот теперь в их домике живу, их дети мне разрешили, а тетя с мужем давно уже умерли. На базаре, в Бишкеке, как–то встретила давнюю знакомую, та и сказала, что мама перед отъездом в Ленинград оставила у них сундучок, он так и стоял нетронутым. Забирай его, говорит. Может, тебе нужно. А там — ноты, книги, ну ты видела… Вот продаю. Завтра — домой. Кот у меня там. Тоскует, когда долго не видит. Я теперь в больницы не ложусь. Не на что. Да и толку нет. Если бы сын мой, если бы дочь моя вернулись… А так, что лечить? Тоску? Ее никто лечить не умеет.
Ты Вальку из параллельного класса не видела? Ну ту, что, помнишь, лучше всех по математике была? Тоже торгует. Чуть дальше от меня, ты не дошла до нее. Все сейчас торгуют. А как жить?
Лора стала медленно одеваться, укутываться шалью.
— Пойду. Надо домой ехать. А ты салфетку эту помнишь? Возьми себе, если хочешь.
— Продай. Вот деньги.
И тут я снова вижу перед собой ту, прежнюю Лору, гордую, сильную, упрямую: “Бери. Я ведь знаю, что тебе хочется ее взять. Возьми на память. А деньги спрячь. Все не продашь и все не купишь”. Мы идем к автобусу. Лорка шаркает ногами, шмыгает носом, вздыхает. И на этой дороге — стихийный базар. Все продают все. Лица незнакомые. Много молодых. И та же всякая ерунда: какие–то чашки, оставшиеся от былых сервизов, “думочки”, вилки…
На прощание Лорка вдруг обнимает меня. Крепко. Плачет, уткнувшись мне в плечо. Шепчет: так ли мы собирались жить?! Я тоже плачу. Мы обнимаемся еще крепче.
— Лора, а где твоя роскошная каштановая коса? — вдруг почему–то спрашиваю я. И она смеется, почти как прежде: “Ты б еще спросила, где мои семнадцать лет!” И мы — смеемся. Нам легко. Лорка садится в автобус и подмигивает мне: “Не горюй, прорвемся, мы, женщины, сильные”.
Автобус двинулся. Лорка махнула мне рукой. Я махнула в ответ.
— Тетенька, тетенька, купите жвачку, конфеты, семечки… Или мандарины?
Шустрый пацан цепко хватает меня за руку, прижимая к груди корзину, наполненную товаром.
— В школу ходишь?
— Не–ка. Зачем?
И вправду, зачем нам всем было учиться, если достаточно только одного знания — складывать да вычитать? Вычитать да складывать. Было бы что. Интересно было бы знать, как долго еще народ наш будет выносить на панель предметы своего далекого прошлого? Сколько еще на нем продержится?
Людмила Жолмухамедова.
Адрес материала: //mail.msn.kg/ru/news/5597/